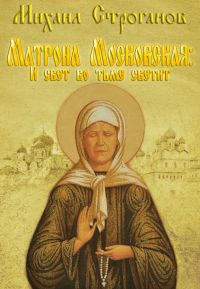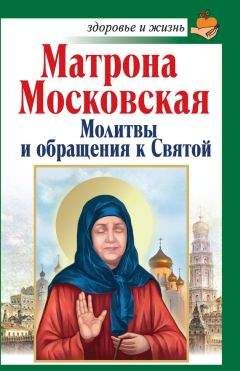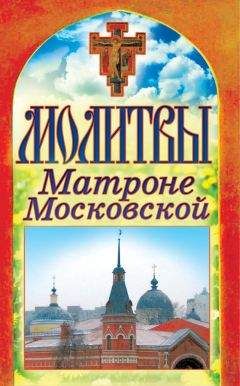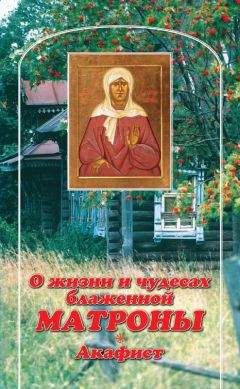С. С. Аверинцев - С. С. Аверинцев Поэты
Герман Гессе[252]
У солнечного склона холма присел высокий, худощавый человек. На острых коленях покоятся длинные руки с очень выразительными пальцами, тонкими и сильными, какие подошли бы пианисту; и это не единственное, что наводит на мысль о музыке. Бсть внутренняя музыкальность в непринужденной позе, сочетающей — словно поза кошки на отдыхе — глубокий покой и напряженную энергию всматривания и вслушивания. Перед нами убежденный любитель досуга, отучивший себя нервно поглядывать на часы, дающий своему времени течь ровной, широкой, рекой, но в нем нет решительно ничего вялого, расслабившегося. Вся складная, жестковатая фигура словно вырезана из дерева каким–нибудь немецким мастером XV столетия. Черты загорелого, морщинистого лица в тени широкополой соломенной шляпы правильны и резки. Линия профиля определена острым, выдавшимся вперед носом, похожим на птичий клюв, и упрямым подбородком, тоже острым и выдавшимся вперед. Шея вытянута, что усугубляет сходство с птицей, голова чуть запрокинута, большие глаза за стеклами очков смотрят вдаль — на зеленеющие долины и голубые горы швейцарского ландшафта.
У каждого поэта — своя анималистическая «геральдика»: от норовистых коней Пушкина и Языкова до респектабельных или криминальных котов Элиота, до манделыптамовского щегла. Гессе знал родство своей повадки с повадками кошки и птицы. В своей поэме–идиллии «Часы в саду» он воспел атмосферу тайны и горделивой независимости, окружавшую его любимого кота, назвав животное — не без воспоминания о том, как обращался ко всем тварям Франциск Ассизский, — своим «братцем». Уже после его смерти была сделана забавная фотография, на которой рядом с его скульптурным портретом красуется кошка, очень точно повторяя своей чуткой, настороженной осанкой ритм линии бюста. Кошка идет к Гессе, как послушная собака, подчеркивающая своим присутствием солидность хозяина, — к Томасу Манну. У Гессе солидности не было никогда. Что до птицы, конечно, этот символ — один из самых популярных (а если говорить менее вежливо, самых избитых) символов от мифа и фольклора до романтизма и неоромантизма. Но нам лучше сразу же примириться с тем, что Гессе как–то не очень боялся банальностей, не знал смертельного отвращения к банальности, жегшего стольких поэтов нашего века. Если для нас это решительно непереносимо, лучше не заглядывать в его стихи. С другой стороны, если ты впрямь птица, какое тебе дело до того, сколько птиц летало и пело в чужих стихах и чужой прозе? Так что Гессе тоже можно понять. Иногда его птица — магическая хищная птица из фантазий странной повести «Демиан», разбивающая мировое яйцо, чтобы вырваться к своему Богу, темному Богу гностиков; иногда, как в прозаической фантазии «Птица», — дикая, несговорчивая певунья, чуждая миру несвободы; иногда, как в одном непритязательном стихотворении, попросту пташка в ветвях, которой надо спешить петь и веселиться, пока не подул холодный ветер осени и смерти, — но атмосфера каждый раз подсказывает более или менее прозрачное самоотождествление. Пташка в ветвях — тоже «братец».
Liebe Vogel im Laub,
Liebe Bruderlein,
Lasset und singen und frohlich sein,
Bald sind wir Staub.
(«Милые птицы в листве, милые братья, будем петь и радоваться, ибо скоро мы станем прахом».)[253]
Рисунок одного приятеля запечатлел Гессе в доверительной «беседе» с ручной галкой по имени Якоб на мосту одного старого немецкого городка. Якоб этот описан у самого Гессе в таких словах, которые не оставляют ни малейшего сомнения, что уж он–то приходился поэту «братцем»:
«Черный, дерзкий и одинокий, сидит он среди светлых чаек и пестрых человеческих фигур, единственный в своем роде, по прихоти судьбы или по собственной своей воле оставшийся без племени и без родины, смотрит непослушным и острым взглядом, озирает движение на мосту и радуется, что лишь немногие пробегут, не удостоив его внимания, что большею частью люди останавливаются из–за него, стоят, подчас подолгу, дивятся на него, качают головами, называют его Якобом и разве что с большой неохотой принуждают себя, наконец, продолжать свой путь».
…Мы продолжаем рассматривать фотографии, одну за другой. Лучшие из них — поздние: Гессе принадлежал к людям, которые в семьдесят лет много красивее, чем в двадцать или тридцать (случай вовсе не столь редкий, как почему–то принято считать). Что увидишь на ранних? Коротко подстриженный юноша глядит застенчиво и заносчиво; в облике молодого человека жесткость гордеца борется с более мягкими веяниями романтической меланхолии и вселенской сострадательности, бесспорно искренней, но очень книжной, пришедшей от занятий тем же Франциском, или Буддой[254], или Толстым:
Die ihr meine Brtider seid,
Arme Menschen nah und feme,
Die ihr im Bezik der Sterne
Trostung traumet ihrem Lied…
(«Вы, о братья мои, бедные люди вблизи и вдали, вы, что грезите об утолении печали вашей в области звезд…»)
Чего стоит вся эта смесь надменности и неуверенности, сентиментальности и непреодоленного страха перед жизнью сравнительно с внутренней музыкой, которая угадывается в движениях старческих рук, в частой сети морщин старческого лица? Уже тревожные, трагические, полубезумные ритмы, определяющие взгляд и осанку Гессе между сорока и пятьюдесятью — между «Демианом» и «Степным волком», — как–то значительнее, крупнее, смелее, чем его прежний облик. Видно, что человек, по крайней мере, на что–то решился, сделал выбор — во всем ли верный, это другой вопрос, но сделал — и от этого сразу вырос. Но только в середине шестого десятка лицо окончательно находит свою истинную форму, которую и сохраняет до конца, до строгого покоя посмертной маски. Во взгляде глаз за очками со старомодной металлической оправой опыт скорби уже неотделим от ясности и бодрости, как в хорошей музыке. Линии рта очерчены твердо, уверенно. Лишь иногда мелькает что–то непрозрачное — гневливость или чувственность; преобладает умудренное спокойствие, вокруг лица — как бывает с лицами, прекрасными именно в старости, — словно особенный воздух. Стоит прожить долгую жизнь, чтобы под конец выслужить себе право иметь такое лицо, — нашел один из посетителей старика Гессе. С этим можно согласиться, а можно и не соглашаться (потому что бывают лица еще лучше, как правило, у людей безвестных); но понять это можно.
Другой гость, пришедший к Гессе в конце жизни последнего, так описывает свои впечатления:
«Дверь кабинета открылась. Вот он. И внезапно — только он. Куртка и штаны из бурого вельвета; рубашка спортивная, без галстука, — старый человек, пронизанный живыми энергиями своего опыта, глаза спокойно и широко открыты от подвижного любопытства, испытуя, просматривая насквозь то, что перед ними; и вдруг приходит радость, сердечность, удовольствие. В его речи восточношвейцарский и базельский говор мешается с легкими отголосками швабского диалекта. С нами ли он? Его смех в ответ на что–то милое в разговоре удостоверяет: «Да, я здесь», но его глаза, глядящие мимо нас, в пространство, на край леса, на свод небес, на пути облаков — как может глянуть хищная птица со своего высокого гнезда, — возражают: «Нет, я далеко». Рот чуть приоткрыт, и кажется, что он слушает речь бог весть откуда, весь собранный, точный, приготовляясь к ответу, словно к прыжку; но ответит он не вслух, его речь будет безмолвной. Потом он вдруг закрывает рот и сжимает губы, явно ставя точку. И он снова с нами».
Есть фотографии, запечатлевшие именно такие мгновения сосредоточенной отрешенности, прислушивания к музыке, которая слышна только ему. На других он запрокидывает голову в смехе, или с коварным выражением оглядывает нас искоса, или высится, худой и стройный, среди книг своей библиотеки, как ее дух и персонификация, или как один из Магистров вымышленной им Касталии — страны музыки, мысли и тишины.
Мы ставим на радиолу пластинку и слышим его голос — старческий, слабый, но неожиданно твердый. Совершенно нет того почти актерского богатства внешних средств, которым играл при чтении своей прозы Томас Манн. Так, как читает Гессе, можно читать не для «публики», а для себя и для своих, для друзей, для касталийцев, способных принять эту скупую простоту и ощутить сквозь нее непогрешимое чувство ритма и темпа, порадоваться любовной артикуляции гласных и согласных немецкого языка. Чужим этого слушать не стоит.
Таков уж был этот Герман Гессе, и ничто на свете, наверное, не смогло бы сделать его другим.
*****На Рождество 1961 года госпожа Нинон Гессе подарила своему мужу новую пишущую машинку. Ему весь декабрь нездоровилось, у него был жар, но в ночную бессонницу он сочинил стихотворение и отпечатал его на только что подаренной машинке.
…Statt zu ruhen, statt zu liegen,
ReiBt michs aus den alten Gleisen,
Weg zu sturzen, weg zu fliegen,
Ins Unendliche zu reisen.
(«Вместо покоя, вместо отдыха меня влечет со старой колеи — куда–то ринуться, куда–то полететь, совершить странствие в бесконечность».)